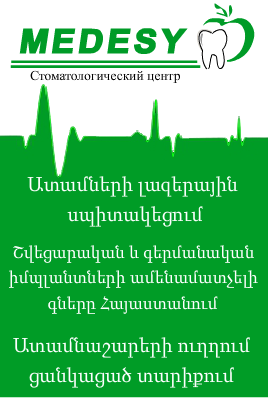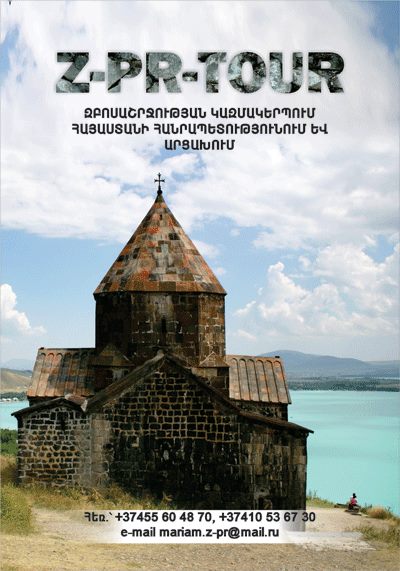КАРС ВЗЯТ! НОЯБРЬ 1877 ГОДА
Соотечественники
Когда утром 18 ноября 1877 года над каменными стенами Карса — древней столицы армянского Карского царства — начало медленно подниматься тревожное осеннее солнце, город уже дышал последними часами своей турецкой обороны. За много веков своей бурной судьбы Карс не раз видел осады, разрушения и нашествия, но редко когда над его бастионами витало чувство столь стремительного и неизбежного конца.
Всего два десятилетия назад, по условиям Парижского мирного договора 1855 года, город был передан Османской империи в обмен на крымские территории. Английские инженеры перестроили крепость, превратив её в одну из мощнейших цитаделей Азиатской Турции: валы высотой с двухэтажный дом, каменные казематы толщиной до десяти метров, рвы шириной до восемнадцати, грозные цепи «волчьих ям» и фугасов, 192 нарезных и 111 гладкоствольных орудий.
И, стоя на высоком горном утёсе, крепость словно срасталась со скалами — казалось, что сама природа сделала её своим союзником.
Но история, как и война, не признаёт непоколебимых стен.
После разгрома турок на Аладжинских позициях русская армия под командованием генерал-лейтенанта Ивана Давыдовича Лазарева, уроженца Шуши, с детства привыкшего к постоянным войнам, начала стремительное продвижение к Карсу.
С 25 октября по 2 ноября к крепости подтягивался огромный осадный парк: пятиметровые медные пушки, 6-дюймовые мортиры, тяжёлые стальные орудия. А 21 октября к стенам подошёл отряд и самого генерала Лазарева. Русские войска располагали 28 тысячами штыков и сабель, в составе полевой артиллерии было 56 пушек.
Теперь на этих камнях стояли двадцать восемь тысяч солдат Российской Императорской армии — русских, армян, казаков... На противоположной стороне крепость защищали 25 тысяч турецких солдат, опытных и закалённых в боях.
С 30 октября весь горный утёс гремел от непрерывной бомбардировки. Земля под стенами дрожала, словно дышала вместе с пушками, а над холмами стоял дым, в котором небо и земля смешивались в один тревожный серый цвет.
17 ноября, девять вечера. Роковой час.
Русские штурмовые колонны устремились на бастионы. Порой они продвигались почти наощупь — под покровом густой темноты, под вой вражеских залпов... Впереди штурмовые группы сопровождали лёгкие 3-фунтовые горные пушки.
Солдаты вспоминали потом, что ночь была настолько чёрной, будто сама крепость пыталась поглотить их тени. Но к утру чернота сменилась огнём.
18 ноября 1877 года, утро.
Карс пал.
Большая часть турецкого гарнизона — измученные, обескровленные солдаты — капитулировали. В плен попали более 17 тысяч турок. Удалось бежать лишь коменданту Гуссейну-Хами-паше и небольшой группе всадников.
Русские войска захватили 303 орудия — весь крепостной арсенал.
Но победа, как всегда, имела свою цену.
Турецкая армия потеряла примерно 7000 человек убитыми и ранеными.
Русская армия — 2300 человек. Из этих 2300 погибших и раненых были: русские солдаты пехотных частей, армянские добровольцы и военнослужащие кавказских подразделений, казаки — терские, кубанские, донские, участвовавшие в штурме.
Точных сведений о национальном составе потерь источники не приводят, однако известно, что казачьи и армянские части входили в наиболее атакующие группы, а значит, понесли тяжёлые утраты. Их имена — затерянные в донесениях, в списках полков, в забытых братских могилах — стали частью истории Карса не меньше, чем камни его мощных стен, которые и сегодня возвышаются над современным городом.
С точки зрения сведений об этом событии чрезвычайно важным и интересным источником является Кавказский путевой дневник князя, русского писателя и публициста, действительного статского советника Владимира Петровича Мещерского, который оказался в самой гуще происходившего. Его повествование начинается с посещения Александрпольской крепости.
В своём дневнике князь Мещерский оставил яркие воспоминания о казаках — об их отваге, стойкости и жертвенности, приводя несколько трогательных историй, которые до сих пор остаются памятником человеческой доблести.
Мещерский пишет: «Нелегко стало на душе. Казака увидишь, поговоришь с ним — сразу полюбишь его. А между тем, знаете ли вы, что нет в русской армии судьбы печальнее казацкой. Во-первых, почему-то казак должен нести, кроме военной службы, личную службу услужения. У кого нет казака в услужении? Во-вторых, кроме аванпостной службы, казак несет и пикетную или сторожевую службу. Тяжёлая эта служба: целый день или стоять на каком-нибудь холме, или же скакать в виде конвойного. При всём этом о казаках никто не заботится. Полковой командир казацкого полка может делать со своим полком, что хочет, никто с него не взыскивает. Некому и жаловаться. Ужасно и печально сказать: эксплуатировать полк и каждого казака в отдельности, стало почти обычаем. Мне называли полки, где командиры не держатся этого обычая; значит, немного, увы, их. Казакам следуют деньги, их просто не дают, и кончено. Казаки молчат, а командир богатеет. Мне указывали на одного из таких командиров, который в течение трёх месяцев заплатил 40,000 рублей долга. Бедные казаки! Есть полки до того бедные, что они, чтобы выйти в поход, должны были заложить свои церкви. А между тем всё-таки они служат источником дохода для своих командиров. Вместе с тем казакам во всем отказывают; у них нет палаток, нет карет для перевозки раненых, есть полки, где нет никакой санитарной помощи.
«У баши-бузуков есть палатки», — говорил один казак с горькой улыбкой, — «а казаку ничего не полагается. Есть бурка — и будет с него; она служит ему и одеждой, и палаткой».
И всё же казак остаётся храбрым, доблестным, смиренным и великодушным солдатом. Так, один офицер встретил казака полторы суток спустя после боя 3 октября. Несчастный стонал от боли:
— Что с тобой? — спросил офицер.
— Ранен, ваше высокоблагородие, — ответил казак. — Мочи нет терпеть, хоть бы подстрелил кто.
— Когда?
— Третьего числа, в ногу, чуть выше колена.
Офицер остолбенел.
— И ты... — начал он.
— Так точно, ответил на недосказанный вопрос казак, — фельдшер, как в ту пору перевязал, так и отпустил, а нынче уж и сил нет терпеть.
— Что же ты в фургоны раненых не лёг?
— Не приказано, ваше высокоблагородие; сказали так, что в фургоны турецких раненых поместили.
Кровь прилила к сердцу офицера.
Офицер взял с собой казака и поехал в ближайшее расположение одного из пехотных полков. Полк этот оказался Московской гренадерской дивизии. Он отправился к полковому командиру Цеймерну и попросил у него позволения поместить казака в их полковой фургон.
Командир, добрый человек, сейчас же согласился.
Казака уложили в удобный фургон, предварительно сделав ему перевязку тщательно и внимательно. Надо было видеть выражение благодарности на лице бедного казака, увидевшего к себе такую же заботу, как к солдату».
Или вот ещё одна история, рассказанная Мещерским в дневнике, о самопожертвовании казака и верной службе.
«2 октября произошло небольшое кавалерийское столкновение, в котором участвовали казаки и Нижегородцы-драгуны. Около двухсот человек наткнулись на шесть полных турецких батальонов. Дважды они пробивали себе путь сквозь ряды врага, потеряли до ста человек и спаслись лишь быстрым отступлением.
На следующий день один из драгунов пришёл к сотенному командиру:
— Что тебе? — спросил командир.
— Я, ваше благородие, пришёл заявить, что один казак вашего полка спас мне жизнь.
— Как это случилось?
— А как мы назад-то бежали, лошадь у меня убили; я слышу турки за нами, бегу, что только есть мочи, а сил как будто не хватает; только, слышу, позади меня справа кто-то кричит мне: "Земляк, а земляк!" Я гляжу: как раз справа камень, а за камнем лошадь стоит; подхожу: казак лежит, значит, раненый, да крепко стонет. Он меня, значит, подметил, да и говорит мне: "Бери, земляк, мою лошадь и скачи, потому турки нагонят и убьют". Я брать не хочу, совестно. "Тебе, казак, пригодится", — говорю. Он меня торопит. "Скорей, говорит, слышишь турки едут. Обо мне не заботься, я уж убитый, а ты спасайся". Я и беру, значит, лошадь, наперед помолившись Богу, сел на неё, пожал ещё казаку руку, а он всё меня торопит, чтоб я ехал, и только сказал: помяни душу казака Николая Спирова. Так я и спасся.
Прослезился и офицер, слушая этот чудный рассказ. Казак этот был из Кизляро-Гребенского полка. Это дело 2 октября ещё раз доказало, что такое турки и что зверства над нашими ранеными производят не одни черкесы, башибузуки, а самое регулярное их войско».
Казаки до конца своих дней оставались верными христианской вере и старались по христианским обычаям предавать земле своих братьев, погибших на поле боя. Вот ещё одна история из дневника Мещерского:
«Кавалерийскому отряду из эскадронов Нижегородцев и 2-й сотни Кизляро-Гребенского полка и 40 человек Дагестанского полка поручено было сделать рекогносцировку на Хаджи-Вали, Маграджика и Орлока. При выходе из Маграджикского оврага 2 октября... отряд наткнулся на шесть турецких батальонов в полном составе. Что делать? Они решаются пробиться через турецкие ряды. Под залпом всех батальонов отряд бросается карьером на один из батальонов и пробивается. Пробившись, летит далее, и что ж? Пред ними отвесный овраг. Дальше идти нельзя. В один миг они решаются вернуться назад и снова пробиться через турок. Решено и сделано. Под этим же огнём приготовляются их встретить турецкие батальоны; они пробиваются снова и ускакивают.
Но увы! дорого им стоило это ужасно-смелое предприятие. Поле усеялось ранеными, оставшимися во власти турок.
На другой день спасённые вернулись подбирать своих. И что они застают? Все тела уцелели, но раненых уже не было. Все были догола раздеты, поставлены в разные позы и увы! послужили ещё живыми предметами страшных истязаний и поруганий. Лица выражали адские мучения. Почти каждому отрезаны были части тела, почти каждого саблей ударяли по голове (офицеры этим забавлялись), отрезаны были носы, вырезаны были на груди большие кресты, залпами в упор стреляли в живот, отрублены были ноги, одним словом, всякий из раненых был измучен зверски, пока не умер.
Что перечувствовали солдаты и офицеры в эти минуты, глядя на голые трупы своих товарищей, человеческое слово не в силах сказать. Здесь опять сказалось чудное сердце казаков и солдат. Все собрали между собою рубахи, подштанники, кто последние отдал, и, благоговейно одев в них несчастных убитых, предали земле».
«Здесь, в Александрополе, со слов проезжавших офицеров, всё настойчивее распространяются слухи о скором штурме Карса. Все говорят о 7-м числе (по старому стилю — прим. Е.Ш.) — то есть о послезавтрашнем дне — как о назначенном для штурма. Значит, мне предстоит увидеть это страшное событие. Но, Боже мой, как сердце рвется и молится, чтобы этого штурма не было… Воображение неотвязчиво рисует десять тысяч новых раненых после штурма, и это производит ужасное впечатление: ведь теперь не десять тысяч, а одной лишней тысячи раненых негде будет поместить.
Мы как-то беседовали об этом с военными. Как я уже говорил, все единогласно признавали успех штурма невозможным и пророчили его отбивание.
При этом один из боевых офицеров очень живописно рассказывал мне о приготовлениях к штурму Карса летом, если не ошибаюсь, 3 июня.
Штурм Карса был внезапно решён. Казалось, Гейман сильнее всех стоял за это решение.
Известие об этом восприняли в войске как что-то зловещее. В успех штурма никто не верил; ожидалась лишь страшная кровавая жертва человеческими силами и больше ничего.
— Никогда не забуду этого вечера и этой ночи, — говорил нам рассказчик. — Когда мы узнали о штурме, всех овладело тяжёлое чувство, тоска какая-то. Это ужасное чувство: идти на битву, зная, что ни делай, успеха не будет, цели не достигнешь. Не дай Бог никому испытать этого.
План был приблизительно таков: действовать должны были две дивизии. Одной дивизии, Комарова, под начальством Геймана, предстояло взять три укрепления; другой дивизии, Девеля, с противоположной стороны, следовало штурмовать свои позиции. С раннего утра предполагалось бомбардирование, а затем — штурм.
Я был в дивизии Комарова. Нам представлялось следующее: мы возьмём первое укрепление — хорошо, оставим там полк; затем с тремя полками возьмём второе укрепление и оставим там полк; с двумя полками возьмём третий форт — хорошо. А затем что? Мы знали, что все эти форты будут обстреливаться. Следовательно, либо нас всех перебьют, если мы будем удерживать взятые укрепления, либо придётся брать форты, оставив полдивизии и уходя. Вот такая наша перспектива.
Разумеется, у всех была грусть и на душе, и на лице. Не припомню, чтобы так часто, как в этот вечер, мы говорили друг с другом об Евангелии и завещании: "Нет ли у тебя Евангелия? Нет ли молитвенника? Нет ли клочка бумаги?" — "На что тебе?" — "Писать жене, писать завещание; как пишется завещание?" Только и слышишь это.
Гейман позвал нас обедать. Все пришли грустные. Подали шампанского — немного развеселились. После обеда внезапно начался ливень, но затем наступил чудный тихий и звездный вечер. Везде слышно, как солдаты двигаются, собираются; кто-то шутит, кто-то пишет письмо, а другие молятся. На душе скверно, заснуть невозможно.
Во втором часу ночи начались сборы — предстоит выступать. Я находился в палатке, когда вдруг появился NN из штаба.
— Что такое? — спрашиваю.
— Плохо.
— А что?
— Орудия завязли, лошади не берут, такая грязь, что страх.
Мы всё-таки выступаем. Вдруг приходит записка от Девеля к Гейману: он заблудился.
Лорис-Меликов решает: если так, я сам поведу дивизию. Ведет. Но тут приходит ещё одна записка, на этот раз от Геймана, с извещением, что он не может предпринять штурма — опоздал, так как артиллерия застряла. Мы вернулись.
Когда мы узнали, что штурма не будет, верите ли, многие из нас не просто обрадовались — трусов между нами не было и нет — а почувствовали, что Бог нас ведёт и что непременно когда-нибудь будет штурм, но не такой; этот не состоялся потому, что он был бы для нас ужасен».
И вот, ноябрь 1877-го... В тот год ноябрь выдался особенно морозным. В разговорах среди солдат и офицеров было распространено мнение, что штурмовать Карс ночью — просто немыслимо. Но всё-таки солдаты готовы были идти на смерть. «Дал бы Господь нашему Князю забрать этот Карцер!», говорили они, перекрещиваясь и идя в штурм (Прим. Е.Ш.: имеется в виду князь Дмитрий Иванович Святополк-Мирский — русский генерал от инфантерии, участник Кавказских походов, Крымской войны и русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Во время последней он находился при главнокомандующем Кавказской армией и активно участвовал в планировании и проведении штурма Карса).
Когда Мещерский прибыл в лагерь, там не оказалось ни души. Осмотрев пустые позиции, он направился к только что прибывшим повозкам с первыми раненными. Это были солдаты с лёгкими ранениями — они держались бодро, отвечали ему весело, хотя у многих не было ни полушубков, ни тулупов, таких необходимых в суровый мороз.
Через несколько минут в лагере поднялась суета: в долину спускалась группа всадников. Сначала Мещерский решил, что это Великий Князь, но спутники сообщили, что впереди — белая лошадь, и значит, это князь Святополк-Мирский, который всегда ездил верхом на белом коне. Через несколько минут Мирский действительно подъехал к своей палатке — статный, красивый, производящий впечатление с первого взгляда.
Спустя четверть часа в лагерь прибыл и Великий Князь Михаил Николаевич. Его свита была огромна, а сам он выглядел торжественным и радостным. Вскоре Мещерский узнал первые сведения о штурме Карса... В числе погибших был граф Михаил Павлович Граббе, что всех очень опечалило. «Недавно вернувшись на Кавказ, после долгой отставки, на тот Кавказ, где он оставил столько доброй о себе памяти, Граббе мечтал о штурме Карса. Но странно: за несколько дней до штурма он вдруг стал, против обычного своего весёлого нрава, задумчив и как будто возненавидел мысль о штурме Карса. Каждый раз, что при нём об этом заговаривали, лицо его хмурилось, — пишет в дневнике Мещерский. —Ах, этот штурм, этот штурм! повторял он не раз; в особенности накануне он часто повторял эти слова, прибавляя, что мысль о штурме, он сам не знает почему, ему ужасно антипатична».
Также смертельно ранен молодой князь Меликов, сын начальника Дагестанской области. «Пуля ему попала в живот, а когда его положили на носилки, его догнала вторая пуля и ранила в ногу. Первая рана была смертельной. Сегодня же из разговоров с несколькими лицами успел убедиться, насколько личность молодого Меликова была честна, привлекательна и симпатична. Его перенесли в саклю одного из ближайших аулов. При нём были двое из его слуг, ухаживавшие за ним так же нежно и внимательно, как ухаживают за раненым сестры милосердия. Он страдал ужасно, но преодолевал муки силой своего светлого и любящего духа. В самые трудные минуты схваток он улыбался... Храбрость Меликова была всем известна», — пишет в дневнике Мещерский.
Великий Князь посетил утром молодого героя, и Меликов, едва улыбнувшись, признал, что надежды нет. Вскоре он скончался — тихо, почти мирно, попросив напоследок горячего чаю.
Постепенно Василий Мещерский собрал сведения о ходе штурма. Командование решило атаковать Карс. Палаточная жизнь при 12-градусном морозе стала невозможной, выбора не оставалось: либо отходить, снимая осаду, либо идти на штурм. Военные рассчитывали главным образом захватить нижние укрепления, а не весь Карс. Действовать решили тремя колоннами, а план атаки составлял генерал Лорис-Меликов. Он настаивал на ночном штурме при лунном свете — смелом и рискованном шаге, призванном ошеломить противника.
Колонна Комарова, где был Меликов, взяла Сувари, но при попытке взять Чим попала под яростный огонь. Меликов пал в первой атаке. Комаровская обходная колонна оказалась под сокрушительным огнём форта Техмас и долго не могла продвинуться. Чим и Техмас пали только к рассвету.
Вторая колонна — графа Граббе — штурмовала Канлы. Солдаты понесли тяжёлые потери; сам Граббе погиб, как и командир Перновского полка Белинский. Канлы сопротивлялся до последнего, и лишь утром капитулировал.
Третья колонна, Алхазова, по ошибке заблудилась в тумане и, вместо штурма Хафиса, неожиданно обрушилась на Карадаг — один из ключевых фортов. Турки не ожидали атаки с этой стороны и впали в панику; форт был взят ещё до рассвета. Из-за отсутствия связи долгое время никто в штабе не мог поверить в успех, пока не прибыл молодой поручик Тхоржевский — фактический герой захвата Карадага. Великий Князь, обняв юношу, не сдержал слёз — и эти слёзы разделили все присутствующие.
К семи часам утра русские войска водрузили знамёна над цитаделью Карса. Штурм, которого боялись и ждали десятилетиями, завершился блестящей победой — и потерями значительно меньшими, чем предполагалось: около трёх тысяч вместо ожидаемых десяти.
Вместе с радостью приходило осознание масштабов пережитого. В Ардосте Мещерский увидел переполненные госпитали: привезли более 1200 раненых при вместимости не более 600. Людей размещали в саклях, не хватало тюфяков, белья, одежды. Но никто не жаловался — даже тяжелораненые. Особенно запомнился юнкер Лазарев, смертельно раненный в голову, который, ослепнув, до последнего пел громким чистым голосом — среди стона, выстрелов и криков под ножом хирургов.
Вечером Мещерский, уставший и потрясённый, возвращался в Ардост. Перед глазами вставали события дня, лица героев, картина взятого Карса. Он думал о реакции России, о том, как Петербург и Москва встретят эту новость, и мог ли кто-нибудь там, вдалеке, представить, что такое Карс и какой подвиг совершила Кавказская армия.
Елена ШУВАЕВА
Фотографии современного Карса — авторские, гравюры — из открытых источников Интернета.
Иллюстрации 2-3 - Иван Лазарев
Иллюстрация 4 - князь Мещерский













 Образ молокан в творчестве русских писателей: между верой, культурой и социальным протестом
Образ молокан в творчестве русских писателей: между верой, культурой и социальным протестом  От Кавказа до Персии: русские и армяне в истории иранского Мешхеда
От Кавказа до Персии: русские и армяне в истории иранского Мешхеда  Русские уходят из аэропорта с высоко поднятой головой
Русские уходят из аэропорта с высоко поднятой головой  Отношения между странами зарождаются на уровне людей - Заруи Бабуханян
Отношения между странами зарождаются на уровне людей - Заруи Бабуханян 




















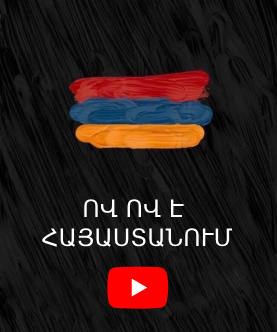
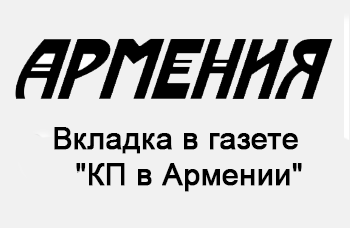






 1
688 просмотров
1
688 просмотров
 2
452 просмотров
2
452 просмотров
 3
418 просмотров
3
418 просмотров
 4
354 просмотров
4
354 просмотров
 5
228 просмотров
5
228 просмотров
 1
841 просмотров
1
841 просмотров
 2
834 просмотров
2
834 просмотров
 4
559 просмотров
4
559 просмотров
 5
461 просмотров
5
461 просмотров
 1
2409 просмотров
1
2409 просмотров
 3
840 просмотров
3
840 просмотров